Туркменские лётчики участвовали в первых авианалётах на Берлин в августе 1941 года

В первые дни Великой Отечественной войны шеф-пилот Аэрофлота Александр Евгеньевич Голованов обратился в Ставку Верховного Главнокомандования с предложением укомплектовать авиацию дальнего действия (АДД) лётчиками гражданского воздушного флота. Дополнительного обучения им практически не требовалось. Инициатива Голованова была одобрена, и вскоре он возглавил авиацию дальнего действия. К концу войны, в августе 1944 года Александр Голованов стал Главным маршалом авиации.
Война потребовала мобилизации всех сил и средств. Добровольно и по призыву более сотни ашхабадских авиаторов прошли горнило боев. Одни из них попали в полки авиации дальнего действия, другие служили в боевых соединениях ГВФ. К примеру, в Десятой гвардейской авиатранспортной дивизии, базировавшейся в подмосковном Внуково, служили более двадцати летчиков из Туркменистана. Им приходилось летать и за линию фронта, и над просторами огромной страны, перевозя людей, грузы, почту.
Командиры воздушных кораблей из Ашхабада - М.Бидный, М.Родных и А.Панфилов получили назначение в 332-й полк ночных тяжелых бомбардировщиков 81-й дивизии. Об их подвигах следует рассказать особо. Они были задействованы в качестве командиров самых больших тогда бомбардировщиков ТБ-7 и вошли в состав особой группы из одиннадцати экипажей, готовящейся к налетам на Берлин. В группе, отобранной для спецзадания, были командир дивизии М.В.Водопьянов – известный полярный лётчик, пятеро командиров эскадрилий, другие опытнейшие пилоты и двое лейтенантов – Бидный и Панфилов. Но пусть никого не смущают их воинские звания, в армию они пришли из гражданской авиации, где налетали более миллиона километров. Опыта им было не занимать.
Что из себя представляли самолеты ТБ-7, позже переименованные в Пе-8? Выпущенные небольшой серией в 1938 году, вначале они считались чуть ли не летающими крепостями. В носу, под фюзеляжем, в обтекателях средних гондол устанавливались пулеметы, за спинами пилотов и в корме размещались пушки. Рабочие места одиннадцати членов экипажа прикрывала стальная броня. Самолеты с гладкой анодированной обшивкой, где пилоты располагались сверху друг за другом, имели прекрасный обзор, могли развивать скорость до 400 километров в час, забирались на высоту одиннадцать километров и легко преодолевали 3000 километров. Достаточно напомнить, что именно на ТБ-7 (Пе-8), но с более мощными двигателями, летал позже над оккупированными нацистами территориями, через Исландию в США Министр иностранных дел СССР В.М.Молотов.
Фашисты в начале войны не допускали даже мысли о возможности бомбардировок столицы гитлеровского рейха. Это неоднократно гарантировал Г.Геринг, а «геббельсовская пропаганда» во всю трубила, что русская авиация разгромлена и никогда не поднимется. Несостоятельность этих высказываний подтвердила бомбардировка Берлина самолетами ФБ-3 1-го минно-торпедного авиаполка краснознаменного Балтийского флота под командованием Е.Н.Преображенского, взлетевшими с аэродрома Кагул на острове Сааремаа. Теперь наступила очередь ТБ-7. Предстояло пройти над сушей и морем 2700 километров до Берлина и обратно в условиях мощной противовоздушной обороны. Большая часть маршрута пролегала над Балтийским морем. Задача не из легких!
Система ПВО Берлина действительно выглядела устрашающей. Город окружали три пояса зенитных и прожекторных установок. До высоты пять километров над ним поднимались аэростаты заграждения. При необходимости в воздух взмывали истребители-перехватчики с фарами-прожекторами. Кроме того, от столицы до самого побережья располагались отдельные зенитные батареи, имеющие хорошие средства связи и своевременно оповещаемые о действиях противника. Да, трудно было атаковать Берлин!
Бомбардировщики взлетали раздельно с аэродрома Пушкино под Ленинградом в ночь на 11 августа 1941 года. Сохранились воспоминания участников полёта на самолете Василия Бидного. Вот как они описывают происходившее: «Через сорок минут после взлета загорелся левый средний дизель. Его выключили и потушили. Бидный продолжил путь вперед на трех двигателях. Над Данцигом запылал левый крайний дизель. Выключили и его. Самолет стал плохо управляться, два правых мотора не могли дать необходимой тяги. Самолет потихоньку снижался. Проще было отбомбиться над какой-либо ближайшей запасной целью, но Бидный упорно тянул к Берлину. К моменту подлёта к нему высота была всего 200 метров. И вот, наконец, открылись громадные люки, с легкими мягкими толчками на город высыпаются сорок стокилограммовых бомб. Тут же на земле вспыхнули прожекторы, начинают бить немецкие зенитные орудия. Но облегченный самолет позволяет уйти вверх и войти в облака. А там новая напасть – сильнейшее обледенение. Пришлось снижаться. Зенитки не унимаются, хотя разрыва снарядов видятся главным образом впереди по курсу. Причину этого поняли уже потом. Немцы делали упреждение из расчета трехсоткилометровой скорости самолета, а он еле-еле тащился со скоростью 165 километров в час. И благополучно ушли! Через десять часов после взлета на последних каплях горючего бомбардировщик Бидного все же приземлился в Пушкино».
А вот Александр Панфилов из полёта не вернулся. Над Берлином экипаж выполнил задание, но на обратном пути над Финляндией самолет был подбит зенитками. Пришлось совершать аварийную посадку в лесу неподалеку от Хельсинки. Летчики быстро вырыли окопы возле самолета, расставили в них пушки и пулеметы, снятые с турелей. Утром они были обнаружены финскими солдатами батальона внутренней охраны. И начался бой. Атаки финнов захлебывались одна за другой. Бой длился почти четверо суток. В живых из экипажа остался только стрелок-радист. Он, вызволенный из плена, да скудные архивные данные и донесли до нас правду о последнем полёте ашхабадца Панфилова.
Потери от налетов на Берлин были большими: утеряны несколько самолетов, в том числе самолет комдива М.Водопьянова. Пробитая осколками топливная система не позволила на обратном пути пересечь линию фронта, самолет совершил вынужденную посадку за двести километров до нее. Самолет сожгли, а экипаж много дней пробирался к своим.
После налета на Берлин самолетов ДБ-3 немцы попытались скрыть, кто их бомбил. По радио даже сообщили, что «сотни английских бомбардировщиков вторглись в воздушное пространство Германии, но были рассеяны, из числа немногих прорвавшихся к Берлину шесть самолетов сбиты». А вот принадлежность ТБ-7 скрыть уже не удалось, и многим стало ясно, что на восточном фронте нацистов ждёт крах.
Долгие годы оставалась неизвестной судьба Героя Советского Союза командира Ашхабадского авиаотряда М.Родных. Оказалось, что в середине 1943 года его бомбардировщик был сбит в тылу врага. Из плена Родных был освобожден в 1945 году и затем работал в диспетчерской службе одного из приволжских аэропортов.
Туркменские авиаторы отважно сражались. Их уважали, им доверяли ответственные задания. Например, шеф-пилотом маршала Р.Я.Малиновского был туркменистанец - А.И.Прокуродов. Прославились ашхабадские женщины-пилоты М.Ануфриева и Л.Никольская. Многие туркменистанцы были награждены орденами и медалями. К концу войны Героями Советского Союза стали четверо выпускников Ашхабадского аэроклуба. Один из них М.К.Токаренко, после войны вернулся в Ашхабад и летал на транспортном самолете Ли-2. В 1985 году по представлению Ашхабадского горисполкома столичному аэроклубу было присвоено имя Михаила Токаренко.
С войны не вернулись командиры эктпажей А.Ковалев, А.Панфилов, В.Бидный, П.Мосалев, М.Каспаров, Г.Атаджанов, К.Пянзин, Я.Бракгенгеймер, М.Якушев, М.Попович, В.Минеев, А.Васильев, Х.Акимов и другие. В Ашхабаде на служебной территории аэропорта возвышается обелиск, на котором высечены фамилии 21 лётчика, не пришедших с фронтов.
На фронте было тяжело. Но не легче приходилось авиаторам, оставшимся в тылу. Они трудились практически круглосуточно, без выходных и отпусков. Летали много, делая возможное и невозможное для скорейшей победы: перевозили раненых, обслуживали геологов, опыляли сады и поля, зондировали атмосферу, участвовали в монтаже нефтеперегонного завода в Красноводске, выполняли самые различные задания.
Особо изнуряющей и зачастую опасной была доставка серы из пустыни. Вопрос о вывозе из Каракумов стратегического сырья - серы стоял очень остро. И трудности преодолевались. За серой летали на самолетах Г-2. Это была гражданская модификация уже устаревшего бомбардировщика ТБ-3. От однотипных четырехмоторных боевых машин Г-2 отличались застекленными кабинами летчиков и дополнительными бензобаками в грузовом, отсеке. Среди командиров этих экипажей в Ашхабаде были и две женщины – Т.Слепова и А.Гребенникова.
Сохранились воспоминания о героической работе командира корабля А.Д.Котова. На одном из такыров скопилось четыре с половиной тысячи тонн серы, добытой в Каракумах. Ее необходимо было срочно вывезти, но как? Такыр небольшой, размеры полосы маловаты для тяжелого самолета. А Ставка требовала любой ценой дать серу заводам. Первый, посланный на точку самолет был поломан. Тогда полёты на такыр поручили А.Д.Котову. И он с экипажем на несколько месяцев отправился в пустыню. Ежедневно по 15-20 раз садился и взлетал на Г-2 с крошечной полоски твердого грунта, рискуя жизнью. Вся сера была переправлена на ближайший аэродром. За этот подвиг Котов был удостоен ордена «Знак почета». Награды были вручены Т.Слеповой, Н.Радько, А.Аманову и другим туркменским авиаторам.
Так воевали на фронтах и работали в тылу туркменские лётчики. К огромному сожалению, до 73-й годовщины Великой Победы никто из них не дожил. Но Память о них священна.

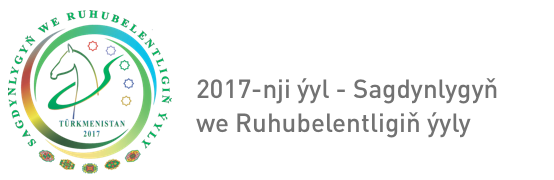
 HABARLAR
HABARLAR